 Право-мед.ру
Право-мед.ру
Актуальные новости о здравоохранении, правовых аспектах и охране здоровья для профессионалов и интересующихся
Подписаться в TelegramНа сегодняшний день мы понимаем, что существует отрасль медицинского права, у которой должен быть четко определенный предмет
Текстовая версия трансляции радио «Серебряный дождь. Новосибирск» за 30 января 2024 года.
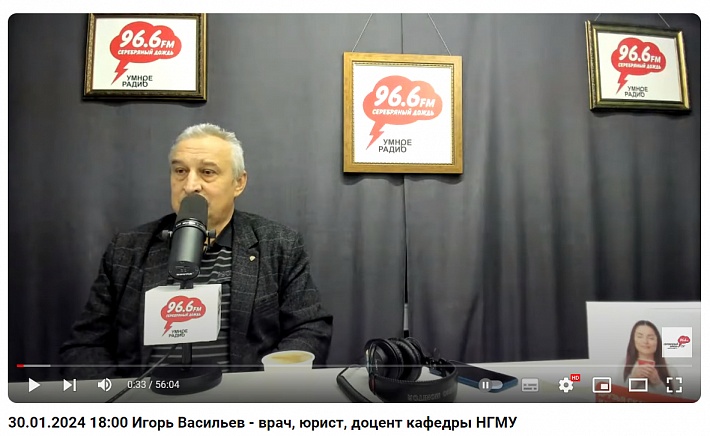
С. Чибриков: В гостях у нас доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения Новосибирского государственного медицинского университета, председатель медико-правовой комиссии Новосибирского регионального отделения Ассоциации юристов России Игорь Валерьевич Васильев. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Рады вас тут приветствовать у нас.
И. Васильев: Здравствуйте, Стас. Добрый вечер, Новосибирск.
С. Чибриков: Мы с вами некоторым образом коллеги, потому что в свое время вы были автор и руководитель телевизионных программ. Был у нас такой телеканал НТН-12.
И. Васильев: Совершенно верно.
С. Чибриков: И там, собственно, программы «Формула здоровья», «Право и безопасность», «Набат». Спасибо вам, что они были.
И. Васильев: Совершенно верно. Был такой эпизод в жизни на заре 90-х годов, когда телевидение только начинало формироваться не только в Новосибирске, а и в России. Если вы помните, ну, я напомню, что НТН имела, по-моему, лицензию под номером 2 в Российской Федерации. Частный телеканал был одним из первых. И вот тогда на своих ошибках думали, что, как делали, какие-то свои проекты двигали.
С. Чибриков: Нет, ну, в те времена это, в принципе, развитие вот СМИ. Мы там думали, что радио как-то делаем тоже в те же годы. Телевидение. А как вы врач и вдруг пришли на телевидение?
И. Васильев: Ну, это история достаточно длительная.
С. Чибриков: А у нас час времени есть.
И. Васильев: Ну, на самом деле надо сказать, что я сначала-то закончил медуниверситет. Распределен был в медуниверситет. Закончил как хирург, пошел работать на кафедру научной патологической физиологии с планами защитить диссертацию, развивать науку. Ну, собственно говоря, первое получилось, диссертацию я защитил, но и потом случилось то, что случилось.
В стране пошла галопирующая инфляция, и работать на кафедре стало, ну, скажем так, не совсем престижно и доходно.
С. Чибриков: Скажите, а вы не помните, вот так, навскидку, сколько тогда была зарплата на кафедре? Плюс, хотя сейчас еще надо вспомнить, сколько, какие вообще деньги.
И. Васильев: Нет, я могу сказать, что когда я пришел, я еще пришел старшим лаборантом, 116-120 тысяч. Вот такие цены были. Но дело в том, что когда инфляция пошла, просто у нас индексироваться зарплаты не успевали. И поэтому порой получалось, что зарплата была меньше, чем стипендия у студентов.
С. Чибриков: 116 тысяч это уже в те времена... Не тысяч, рублей.
И. Васильев: На самом деле сначала он был в рублях, потом дошел до 6 тысяч. Ну то есть дело в чем, я когда заканчивал институт, я сделал изобретение совместно с профессором Мышом. Был такой, да, Георгий Дмитриевич. В 89-м году мы подали, значит, на изобретение, ну, в результате где-то в 92-м, 93-м мне пришел, значит, вот этот вот патент, и тогда положено было изобретателям выплата, и выплата составила 180 рублей. И на тот момент я смог на эту выплату купить только пачку сигарет. Магна, даже не...
С. Чибриков: Курение вредит нашему здоровью и кошельку.
И. Васильев: Абсолютно согласен.
То есть вот поэтому сложно сказать, какие были зарплаты. Но, во всяком случае, когда была уже защищена диссертация, какой-то этап был пройден, и ребята пригласили попробовать себя в качестве телеведущего и руководителя. То есть я на самом деле был и автором идеи, и руководителем. Набирали ребят. Сначала была «Формула здоровья». И достаточно успешная была программа в то время, которая захватила свою аудиторию.
Мы старались сделать научно-популярную программу, сделать некие просветительские варианты. Академик говорил, что оно может быть не менее важны, чем непосредственно лечение.
Сейчас уже перекидываемся на новую область. По большому счету, у нас пациент стал субъектен, и он должен понимать на сегодняшний день что такое лечение, зачем оно им нужно, чем им грозит, и что лучше делать, а что не делать.
Поэтому, в принципе, уровень понимания должен повышаться, и причем, на мой взгляд, в большей степени научно, чем популярно. То есть вот тогда была такая концепция.
Я на самом деле в это время очень хорошо познакомился даже с тем, кого не знал по институту. То есть по большому счету здесь интерес был в то время неподдельный и у медицинского сообщества, и у людей, которые смотрели: у пациентов, у телезрителей. Были звонки и в вечерние, и после программы, и очень большой интерес был и у пациентов, и у коллег по работе.
С. Чибриков: Вы, то есть, на тот момент на какое-то время оставили работу в медицине и ушли в телевизор. То представляете, какие бы к вам очереди бы выстраивались в кабинет? Вот тот самый, я же вас видел вчера по телевизору.
И. Васильев: Ну, сейчас это уже прошло, но по большому счету, да, я ушел из медицины, чисто на телевидение. Вот, и потом работал. Потом появилась идея создать «Криминальную хронику». И у нас появилась программа «Право и безопасность».
Это еще один мой проект, которая была из двух частей. Состояла первая, это хроникальная часть. У нас впервые, наверное, ну, одни из первых в России мы содержали группу, вернее, три группы операторов и водителей, журналистов, которые в круглосуточном режиме снимали тогда еще видео на телефонах.
И мы работали. Все что в Москве проходило по НТВ, это были наши сюжеты. Мы по нашим сюжетам в цикле «Криминальная Россия» прошло 8 фильмов. Мы подготовили, участвовали. Ну, такая достаточно была тоже популярная программа. Мы в ней попытались также не только показывать хронику, но и говорить о проблемах с правом, с безопасностью.
Ну, времена, вы, если помните, были непростые. Мы пытались работать по-журналистски. То есть мы освещали те события, которые совершались, и скорее излагали чужую точку зрения и разные точки зрения.
С. Чибриков: Игорь Валерьевич, это еще удивительнее. То есть врач, который, ладно, ведет программу про медицину, тут вопросов нет. Но врач, который готовит, то есть редактирует и готовит программу о криминалитете. То есть это вот как ЧП сейчас. А тут-то как?
И. Васильев: Ну, вот так получилось. Почему-то у меня возник такой интерес, потому что никто не показывал. Но я не вел программу о формуле здоровья, я руководителем. А вот в право безопасности я уже стал ведущим. потому что никто не показывал, но я не вел программу «Формулы здоровья», я руководителем был. А вот в «Право и безопасность» я уже стал ведущим, и просто было интересно на тот момент, но это было прямо на гребне волны. И в какой-то момент, когда я уже эту программу делал, потом появилась ежедневная программа «Набат» , ежедневная криминальная хроника. И в последующем почувствовал, что не хватает знаний правовых и поступил, уже работая на телевидении, в Томский государственный университет на юридическое образование и закончил этот факультет. Так что у меня на самом деле два образования врач юрист этого у меня даже некоторое время называли «Медикамент».
С. Чибриков: Игорь Валерьевич, поносила вас жизнь, потому что, вот повторю, кто только что к нам присоединился, из врачей вы ушли на телевидение, с телевидения в юристы. Кем вы хотели вообще в детстве-то на самом деле стать?
И. Васильев: Вы знаете, у меня была мечта стать военным. В общем, до 10 класса. Потом я понял, что медицина меня все-таки интересует, тем более у меня и дед медик, и преподаватель, и отец с матерью, и брат медик, и жена медик, и сын кандидат наук, и дочка стоматолог, а сын - нейрохирург.
Время было такое и я благодарен судьбе, потому что получилось прожить несколько жизней.
Я не жалею, что я попал благодаря своим друзьям на телевидение. Это была целая эпопея, это было 8, где-то 9 лет такой активной жизни. При этом, когда все бурлило. Когда все было можно, я считал, что я такой вот все могу. Тем более, что тогда можно было приходить без записи на любые мероприятия, допустим, там, губернатора, облсовета. И освещать, как захочешь, да. Тогда было достаточно просто. Потом, как я уже сказал, не хватало правовых знаний. Пошел, получил юридическое образование, продолжал. Стало попроще работать, разбираться в криминальных темах, значит, работать с юристами, со следователями. Профессионализм программ повысился. Но потом возникла такая ситуация, что все-таки стало уже надоедать. Когда мне порой высказывали, что у тебя программы повторяются, имеются в виду, по фабуле, по темам.
Ну, вот у меня появилась такая мысль, что вечное не делается еженедельно. Поэтому надо держать какой-то уровень. Потому что это рутина. И надо просто держать какой-то стабильный уровень. А следом пришло продолжение этой мысли, что еженедельное нельзя делать вечно.
И захотелось заняться чем-то вечным. Захотелось попробовать совместить две профессии врача и юриста и заняться вопросами правового регулирования медицинской деятельности.
С. Чибриков: То есть, Игорь Валерьевич, я правильно понимаю, что пока вы были в мире телевидения, потом учились на юридическом, вы от медицины как-то отошли? И через какое-то время вы возвращаетесь в медицину. И как? Реакция доцента, кафедры. Вот она, здравствуй, медицина, давно я тут не был, 8 лет. Что там произошло за эти 8 лет?
И. Васильев: Дело в том, что я пришел не совсем туда, откуда уходил. Я ушел с чисто научной кафедры патологической физиологии. А вернулся уже с учетом моих новых профессиональных компетенций, я вернулся на кафедру общественного здоровья и здравоохранения, где появилось преподавание правового регулирования медицинской деятельности.
На сегодняшний день мы преподаем правоведение для студентов и преподаем правовые основы деятельности врача, потому что появилось правовое регулирование медицины.
Когда я учился в прошлом веке, я уже достаточно древний, у нас не было права, как такового. Было три занятия по поводу уголовной ответственности, медработников. А в программы начало активно внедряться правовое регулирование медицины. Появились учебники. И когда я возвращался, то надо сказать, что меня прям приняли с распростертыми объятиями. Во-первых, остепенен, во-вторых, медик, и в-третьих, еще и юрист. И вот, собственно, я вернулся, возглавив этот курс правоведения в медуниверситете. И мы, собственно, разрабатывали, опять это очень интересно, с нуля вот эти вот вопросы преподавания медицина, объема права для медиков, методик которыми должны мы преподавать.
Параллельно я занимаюсь научной деятельностью в сфере правового регулирования медицины. И надо сказать, что здесь поле непаханое. Дело в том, что отрасль молодая.
Собственно говоря, я так понимаю, что поводом информационным для нашей с вами встречи послужило решение Конституционного суда. Это очень интересно, потому что вот этот год, 24-й год, начался для нас тем, что Конституционный суд Российской Федерации издал 11 января Постановление номер 1П.
В этом Постановлении оно касалось определения степени тяжести вреда здоровью по жалобе гражданина, который был потерпевшим по уголовному делу. Но нас здесь больше интересует не то, что Конституционный суд отказал в отмене нормативно-правового регулирования, а то, что в мотивировочной части он высказал такое мнение, что ряд вопросов напрямую относятся к регулированию не уголовным правом, а медицинским правом.
И очертил предметную область. Он сказал, что учет физиологии, анатомии человека, а также вопросы регулирования медицинской деятельности, в том числе и деятельности по проведению судебно-медицинских экспертиз, регулируется медицинским правом.
Для большинства наших радиослушателей, наверное, это не особо-то и звучит.
С. Чибриков: Нет, я вам скажу, Игорь Валерьевич, в последнее время, я как сторонний наблюдатель, у меня складывалось ощущение, что положение врача перед законом, как отношение врач и пациент, примерно такие же, как отношение водитель - пешеход. Неважно, в каком состоянии, где, как переходил, переползал пешеход дорогу с нарушением водитель всегда виноват. Также у меня складывалось ощущение из врачами такая тонкая грань. Чтобы не произошло - врач всегда виноват отсюда и так называемый потребительский экстремизм, когда главное написать жалобу. Все равно врач всегда виноват. Все равно какую-то копейку из него отсужу. Может быть, я заблуждаюсь, и это все публикации в СМИ такое создают ощущение.
И. Васильев: Дело в том, что я сам как работник, бывший работник СМИ. Где-то соглашусь с профессором Преображенским: не читайте до обеда газеты.
На самом деле здесь сказать можно следующее. С одной стороны, это где-то так. Но не все так просто, а с другой стороны, не все так сложно. Когда пришло понимание необходимости правового регулирования медицины, все начиналось с того, что научного подхода не было, и все складывалось эмпирически. То есть появлялись какие-то нормативно-правовые акты, зачастую подзаконные нормативные акты, и они появлялись в большом количестве и создавали такой большой объем норм, которые вообще непонятно, как применять.
Я вам могу сказать, что если говорить о 2000-х годах, то там скорее можно было говорить о другом, что пациенты не могли никоим образом защитить свои права перед медицинскими работниками.
Это было связано и с высокой корпоративностью медицинских работников, и с непониманием правового регулирования медицины. Но в последнее время действительно происходит изменение совершенно в другую сторону. Когда потребительские отношения напрямую применяются к отношениям при регулировании, при взаимодействии пациента и медицинского учреждения. И здесь действительно возникает ситуация, когда медучреждение всегда не право.
Отношения, которые связаны с взаимоотношением между пациентом и медучреждением, пациентом и врачом, они весьма личные и интимные. И по накалу страстей в этих вещах, они, может быть, только семейные какие-то споры превосходят, когда там наследство делят или прочее.
В начале 2000-х у нас был такой Сибирский третейский суд, который сейчас немножко видоизменился. И там у нас была медицинская коллегия. Мы рассматривали вопросы именно в третейском разбирательстве. Я встречался со спорами в сфере медицины. И я вам могу сказать, что там позиция следующая. Пациент приходит говорит, мне ничего не надо. Мне надо, чтобы врачу руки оторвали. Но если руки не оторвали, чтобы диплом у него собрали, чтобы он больше никому не навредил. Как минимум.
А позиция врачей, она приблизительно такая, что эту дуру надо в психиатрическую больницу, потому что она ничего не понимает. Дело в том, что сумбурность нормотворчества и законодательства порождает и сумбур в отношениях.
Дело в том, что медицина сама по себе представляет собой набор правил поведения, которые изменить невозможно. Может быть, мы бы хотели жить вечно. Но, к сожалению, есть один пример, когда человек получил вечную жизнь и воскрес. Это вопрос веры.
С. Чибриков: Скажите, какими вообще правовыми актами регулируются отношения врач-пациент.
И. Васильев: У нас существует закон основной наш закон, который был принят 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан», который достаточно детально и подробно расписывает какие-то моменты регулирования отношений между пациентами и врачами. Больше того, этот закон провозгласил, что он самый главный этот закон при регулировании отношений в системе здравоохранения и все иные законы, подзаконные и иные нормативные акты должны ему соответствовать.
Вместе с тем, получается то, что у нас медицину регулирует и гражданское право, потому что, в принципе, мы с вами чаще всего, и, наверное, вы сейчас за это зацепитесь, встречаемся с медициной как с услугой. Не буду цепляться, это заезжено.
Мы сказали о том, что существует некое недопонимание, и оно действительно есть, потому что в Гражданском кодексе написано, что вообще-то Гражданскому кодексу соответствуют все гражданско-правовые отношения. А единственным источником уголовного права является Уголовный кодекс. А есть еще административные вопросы, регулирование трудового права Трудовым кодексом, где тоже все вопросы труда регулируются специальным образом. И там Трудовой кодекс является основным источником.
Вопрос-то в следующем, что оказывается, что у нас медицину регулируют все отрасли права. Есть особенности труда медработников, есть гражданско-правовое регулирование, административное регулирование, уголовная ответственность и так далее. А где же тогда медицинское, по сути, право? Очень часто начинают говорить, вот то, что мы говорили, затертый вопрос, а помощь или услуга?
Здесь это, в общем-то, мнимое противопоставление, потому что нет понятия в чистом виде противопоставляющего услугу и помощи. Дело в том, что медицинская помощь – это некий набор мероприятий, которые направлены на профилактику, лечение, реабилитацию после заболевания. То есть то, что делается.
А при этом само по себе услуга – это взаимоотношения между двумя субъектами, то есть в какой связи они находятся юридически.
Дело в том, что медицинскую помощь можно оказать не обязательно в виде услуги. Потому что услуга – это договор, где услугодатель выполняет действия в пользу услугополучателя, а, соответственно, услугополучатель должен их оплатить.
А представьте себе, если больной без сознания и умирает. Приезжает скорая. Она выполняет реанимационные мероприятия. Это что – услуга? С кем договариваться? Но эти вопросы также урегулированы Гражданским кодексом - это действие в чужом интересе без поручения. То есть это уже просто не услуга, это другие вещи. А есть вариант, когда вообще никакого гражданского регулирования нет.
Прилетает самолет, берут человека и начинают его в нос палочки пихать, в карантин закрывать, вроде выполняя какие-то медицинские манипуляции.
Но это абсолютно не гражданско-правовое отношение. Это регулируется Административным кодексом, и целью является не обеспечение здоровья этого человека, его никто не спрашивает. Самое главное, чтобы он других не заразил.
Все сложно и дело в том, что упрощать все просто так, говорят простота хуже воровства. Если мы начнем ко всему относиться просто, да, не согласный я ни с Каутским, ни с...
С. Чибриков: Если вы вспомнили про палочки в нос, тогда помните же, сколько было скандалов. Я - свободный человек, не обязан я тут маску носить, это наносит вред моему там...
И. Васильев: Вот смотрите, дело в чем. Это вопрос в конституционно-правовом регулировании. Безусловно, наше государство провозгласило себя правовым и, больше того, одно из самых передовых правовых государств, потому что у нас во второй главе Конституции написано, что государство у нас создано для того, чтобы обеспечивать права и свободу человека и гражданина. И это его основная цель. И вся деятельность его направлена на это.
Какая ситуация возникает? Да, мы исходим из теории естественного права. Человек родился, и он обладает сразу с рождения всеми правами, и ничто не может их неким образом сузить и ограничить. Но смотрите, ситуация в праве. Дело в том, что человек существо общественное. Для того, чтобы мое право было безграничным, вот такая коллизия, его необходимо ограничить.
Вот представьте, меня безграничное право. Я сейчас могу встать, у вас снять наушники, отобрать микрофон.
С. Чибриков: Я не буду спорить. Вы доцент кафедры, ну забрали.
И. Васильев: Ну, с другой стороны, вас больше, и вы таким образом сейчас на меня накинетесь, и я вообще могу отсюда не уйти. Поэтому смысл в том, что существуют определенные в Конституции возможности ограничения права человека для того, чтобы это право работало.
Эту фразу, наверное, слышали, что право каждого заканчивается там, где начинается право другого.
Конституция говорит нам о чем? Что право может быть ограничено только на основании закона и только в целях, которые прямо предусмотрены в 55-й статье Конституции, то есть для сохранности конституционного строя, безопасности страны, здоровья других лиц, ну и там шесть целей.
Но дело в том, что вот в данном случае, когда был ковид, это были абсолютно законные действия, потому что каждый человек, на тот момент, когда вирулентность этого заболевания, вируса была наиболее высока, поэтому надо было ограничивать его распространение. И, в общем-то, это получилось сделать. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, это все было в полном соответствии с правовыми предпосылками.
Ну а то, что касается разграничения, вот сейчас позицию высказал Конституционный Суд.
Но мне кажется, что перед юристами он, показав направление, он дал, в общем-то, большое поле для работы. Потому что нам необходимо ограничить все-таки, что у нас регулируется непосредственно медицинским правом, которое на сегодняшний день есть. Потому что решение Конституционного Суда это окончательное решение, которое обжалованию не подлежит. И каждый юрист должен считаться с этим мнением.
И вот на сегодняшний день мы понимаем, что существует отрасль медицинского права, у которой должен быть четко определенный предмет, чтобы он ни в коем случае не пересекался с другими предметами.
В противном случае возникают вот такие вот непонятности. Дело в том, что немного юристов, относительно немного, занимается медицинским правом. Уголовным правом полно, традиционно трудовым правом и так далее. А медицинским правом немного. Поэтому у нас в Новосибирской области не так много специалистов.
Мы создали е. Мы обсуждаем эти вопросы, это и Питер, и Москва, и Омск, и Ярославль. Вот мы вообще не обсуждая это постановление Конституционного суда и понимая его значимость, мы вышли в Москву, в нашу основную Ассоциацию юристов России с предложением считать 11 января днем признания отрасли медицинского права.
Понимая, конечно, что еще четко очерчены предметы и методы отрасли нет, но понимая и принимая на себя некие обязанности по формированию специального образования отрасли медицинского права.
С. Чибриков: То есть мало вам, что летом день медицинского работника, еще и в январе хотите?
И. Васильев: Вы понимаете, праздников у меня очень много. Вы же еще и юрист, и телевизионный. Совершенно верно.
С. Чибриков: Скажите, а вот это самое медицинское право, вот если брать его, ну скажем так, вот как по возрасту человека, оно у нас сейчас на каком уровне развития? Это ребенок или это юноша? Или уже сформировавшись? Или вообще его нет ?
И. Васильев: Ну, ходить еще не может. Лежит, кричит. Потихонечку, потихонечку с помощью. То есть только, на мой взгляд, только самое начало, потому что необходимо огромное количество работы. Потому что вот те перегибы, которые были, мы с вами обсуждали вначале, в сторону, значит, пациентов и медорганизации, сейчас судебная практика складывается таким образом, что, ну, скажем так, в том числе и с подачей нормотворцев. То есть вот такие нормы были сделаны, которые привели к тому, что на сегодняшний день практика формируется так, что медицинская организация виновата всегда.
Это связано с применением клинических рекомендаций, пониманием их как нормативно-правовых документов. И вот у нас была конференция, и один товарищ наш из Москвы проводил исследование работы скорой помощи. И, соответственно, он проанализировал качество медицинской помощи по тем критериям, которые предлагаются Минздравом.
И он установил, что 100 процентов выезда в скорой медицинской помощи проходят с нарушением критериев качества медицинской помощи. Дело в том, что в эти критерии включаются не только непосредственно какие-то вот нарушения, причиняющие вред. Дело в том, что в эти критерии были включены особенности заполнения меддокументации, своевременности заполнения меддокументации. То есть, в эти критерии включено все.
Цифра чудовищная, но дело в том, что суды у нас почему-то восприняли это, если есть нарушение качества оказания помощи. Значит, это уже есть основание для взыскания с медучреждения неких сумм.
Дело в том, что, безусловно, у нас идет определенное недофинансирование, хотя можно сказать, что стало, конечно, лучше.
Но дело в том, что медицина становится все более и более дорогостоящей. В этой связи надо сказать, что сколько медицину не вкладывай, все равно будет мало.
Понимаете, право, оно не может наказывать 100%. Нельзя массовые деяния наказывать криминально. Есть презумпция в гражданском праве. Дело в том, что презумпция невиновности, она в гражданском праве не действует. Слышали же, наверное, про статью 51 Конституции, что никто не может быть признан виновным. Но это касается уголовной ответственности.
А вот в гражданском праве там совершенно иная ситуация. Потому что гражданское право это другое регулирование. А оно исходит из того, что каждый имеет свои права, каждый и вправе реализовывать, действовать как угодно, сообразно своему пониманию. Но при этом, при всем, вот этот принцип равенства всех субъектов приводит к тому, что никто никому не вправе причинять никакого вреда. И если вред причинен, то соответственно тот, кто причинил, он заведомо виноват, если он не докажет обратного.
С. Чибриков: То есть врач уже виноват, если он не доказал, что он не виноват.
И. Васильев: Ну не совсем так, потому что субъектом взаимоотношения, что касается медицинского права, субъектом взаимодействия с пациентом у нас является медицинское учреждение.
С. Чибриков: Игорь Валерьевич, буквально у нас минут пять с вами осталось, а мы еще по всему праву, так сказать, не успели пройти.
Вот что я понял к этой минуте - что положено начало так сказать внедрению некоего медицинского права. Вопрос - сколько оно будет разрабатываться и когда оно придет в какой-то свой нормативный нормальный вид, чтобы на него можно было ссылаться и говорить что согласно статьи там такой, ведь сейчас же нет такого?
И. Васильев: Нет, у нас сейчас есть. Больше того, я вам скажу, ну, медицинское право, оно, это цель. Мы всегда порой говорим, вот, все плохо, вот мы за все хорошее против всего плохого. Никогда не будет идеала. Но к нему нужно стремиться. И дело в том, что надо делать просто это все постепенно. Как говорят по Дерибасовской гуляют постепенно.
То есть необходимо, наше глубокое убеждение, что все надо делать потихоньку, внедрять научно обоснованные подходы к тому или иному вопросу. Потому что если мы попытаемся, а вот мы все понимаем, мы сейчас сделаем революцию.
Я не помню, кто сказал, что чаще всего наведение порядка это приведение упорядоченной действительности в соответствии с бардаком в собственной голове.
Вот часто у нас такое бывает. А давай мы вот так вот рубанем, давай мы сейчас это все пересмотрим, давай не будет услуги, давай будет помощь.
При этом при всем, играя словами, мы выкидываем смысл. И вот то, что Конституционный Суд дал вот это направление. Почему мы важность этого момента подчеркиваем? Потому что Конституционный Суд дал вот это направление. Мы важность этого момента подчеркиваем, потому что Конституционный Суд нам показал, ребята, вот копайте вот в это.
И здесь я бы хотел, наверное, уже заканчивая, сказать, что у нас складывается такое впечатление, что сама по себе медицина, она не просто наука или искусство, а это своего рода право.
Потому что в медицине существуют правила поведения, которые имеют свойство нормы. Где есть и гипотеза, и диспозиция, нет санкций. Но при этом ответственность возникает. То есть, по большому счету, медицина структурирована, и она правомерна. И вот нам надо фактически сейчас врачам-юристам, нам неким образом надо сблизить и перевести язык медицины на язык права и сказать, где кончается правовое регулирование и где начинается частное регулирование.
И этот вопрос, безусловно, будет разрабатываться, наверное, столько, сколько существует и медицина и право.
С. Чибриков: Но прогнозы это, конечно, неблагодарное дело, но, тем не менее, как вы думаете, сколько примерно должно пройти времени, чтобы из вот это самое медицинское право, которое на данный момент в состоянии ребенка, который даже еще ходить не умеет, ну, хотя бы так, не знаю, такой юноша, который уже уверенно что-то может сказать от своего имени. Сколько времени должно пройти, чтобы медицинское право уже о нем говорили, как о случившемся факте?
И. Васильев: Говорить, как о случившемся факте, начали давно. Дело в том, понимаете, взросление отрасли права зависит не от времени, а зависит от количества работы.
Дело в том, что огромное количество юристов занимается, я уже говорил, вопросами трудового права, уголовного права, уголовного процесса. Это все разрабатывается, потому что это все классические отрасли.
Если мы между собой будем взаимодействовать в рамках Ассоциации юристов России, то тогда, временной фактор станет второстепенным.
Я надеюсь, что мы сможем опредметить и обосновать методологически эту отрасль уже в достаточно короткое время.
Этим мы, я вам обещаю, будем заниматься, и в этом есть наш интерес.
С. Чибриков: Гиппократ вам в помощь, конечно, от всей души. Надеемся, что все у вас получится, и рано или поздно 11 января мы будем вас поздравлять с Днем медицинского права.
И. Васильев: Он был настолько стар, что давал клятву лично Гиппократу. Но это не про меня.
С. Чибриков: Спасибо вам большое. Большое спасибо, что нашли время в вашем плотном графике, заглянули к нам.
Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Новосибирского государственного медицинского университета и председатель медико-правовой комиссии Новосибирского регионального отделения Ассоциации юристов России Игорь Валерьевич Васильев был у нас в гостях.
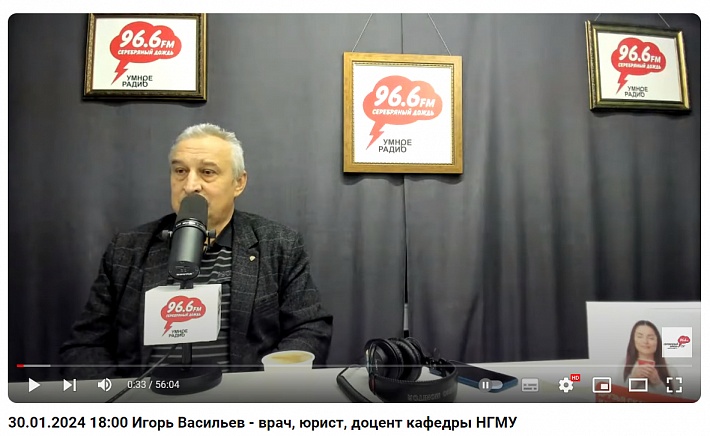
С. Чибриков: В гостях у нас доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения Новосибирского государственного медицинского университета, председатель медико-правовой комиссии Новосибирского регионального отделения Ассоциации юристов России Игорь Валерьевич Васильев. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Рады вас тут приветствовать у нас.
И. Васильев: Здравствуйте, Стас. Добрый вечер, Новосибирск.
С. Чибриков: Мы с вами некоторым образом коллеги, потому что в свое время вы были автор и руководитель телевизионных программ. Был у нас такой телеканал НТН-12.
И. Васильев: Совершенно верно.
С. Чибриков: И там, собственно, программы «Формула здоровья», «Право и безопасность», «Набат». Спасибо вам, что они были.
И. Васильев: Совершенно верно. Был такой эпизод в жизни на заре 90-х годов, когда телевидение только начинало формироваться не только в Новосибирске, а и в России. Если вы помните, ну, я напомню, что НТН имела, по-моему, лицензию под номером 2 в Российской Федерации. Частный телеканал был одним из первых. И вот тогда на своих ошибках думали, что, как делали, какие-то свои проекты двигали.
С. Чибриков: Нет, ну, в те времена это, в принципе, развитие вот СМИ. Мы там думали, что радио как-то делаем тоже в те же годы. Телевидение. А как вы врач и вдруг пришли на телевидение?
И. Васильев: Ну, это история достаточно длительная.
С. Чибриков: А у нас час времени есть.
И. Васильев: Ну, на самом деле надо сказать, что я сначала-то закончил медуниверситет. Распределен был в медуниверситет. Закончил как хирург, пошел работать на кафедру научной патологической физиологии с планами защитить диссертацию, развивать науку. Ну, собственно говоря, первое получилось, диссертацию я защитил, но и потом случилось то, что случилось.
В стране пошла галопирующая инфляция, и работать на кафедре стало, ну, скажем так, не совсем престижно и доходно.
С. Чибриков: Скажите, а вы не помните, вот так, навскидку, сколько тогда была зарплата на кафедре? Плюс, хотя сейчас еще надо вспомнить, сколько, какие вообще деньги.
И. Васильев: Нет, я могу сказать, что когда я пришел, я еще пришел старшим лаборантом, 116-120 тысяч. Вот такие цены были. Но дело в том, что когда инфляция пошла, просто у нас индексироваться зарплаты не успевали. И поэтому порой получалось, что зарплата была меньше, чем стипендия у студентов.
С. Чибриков: 116 тысяч это уже в те времена... Не тысяч, рублей.
И. Васильев: На самом деле сначала он был в рублях, потом дошел до 6 тысяч. Ну то есть дело в чем, я когда заканчивал институт, я сделал изобретение совместно с профессором Мышом. Был такой, да, Георгий Дмитриевич. В 89-м году мы подали, значит, на изобретение, ну, в результате где-то в 92-м, 93-м мне пришел, значит, вот этот вот патент, и тогда положено было изобретателям выплата, и выплата составила 180 рублей. И на тот момент я смог на эту выплату купить только пачку сигарет. Магна, даже не...
С. Чибриков: Курение вредит нашему здоровью и кошельку.
И. Васильев: Абсолютно согласен.
То есть вот поэтому сложно сказать, какие были зарплаты. Но, во всяком случае, когда была уже защищена диссертация, какой-то этап был пройден, и ребята пригласили попробовать себя в качестве телеведущего и руководителя. То есть я на самом деле был и автором идеи, и руководителем. Набирали ребят. Сначала была «Формула здоровья». И достаточно успешная была программа в то время, которая захватила свою аудиторию.
Мы старались сделать научно-популярную программу, сделать некие просветительские варианты. Академик говорил, что оно может быть не менее важны, чем непосредственно лечение.
Сейчас уже перекидываемся на новую область. По большому счету, у нас пациент стал субъектен, и он должен понимать на сегодняшний день что такое лечение, зачем оно им нужно, чем им грозит, и что лучше делать, а что не делать.
Поэтому, в принципе, уровень понимания должен повышаться, и причем, на мой взгляд, в большей степени научно, чем популярно. То есть вот тогда была такая концепция.
Я на самом деле в это время очень хорошо познакомился даже с тем, кого не знал по институту. То есть по большому счету здесь интерес был в то время неподдельный и у медицинского сообщества, и у людей, которые смотрели: у пациентов, у телезрителей. Были звонки и в вечерние, и после программы, и очень большой интерес был и у пациентов, и у коллег по работе.
С. Чибриков: Вы, то есть, на тот момент на какое-то время оставили работу в медицине и ушли в телевизор. То представляете, какие бы к вам очереди бы выстраивались в кабинет? Вот тот самый, я же вас видел вчера по телевизору.
И. Васильев: Ну, сейчас это уже прошло, но по большому счету, да, я ушел из медицины, чисто на телевидение. Вот, и потом работал. Потом появилась идея создать «Криминальную хронику». И у нас появилась программа «Право и безопасность».
Это еще один мой проект, которая была из двух частей. Состояла первая, это хроникальная часть. У нас впервые, наверное, ну, одни из первых в России мы содержали группу, вернее, три группы операторов и водителей, журналистов, которые в круглосуточном режиме снимали тогда еще видео на телефонах.
И мы работали. Все что в Москве проходило по НТВ, это были наши сюжеты. Мы по нашим сюжетам в цикле «Криминальная Россия» прошло 8 фильмов. Мы подготовили, участвовали. Ну, такая достаточно была тоже популярная программа. Мы в ней попытались также не только показывать хронику, но и говорить о проблемах с правом, с безопасностью.
Ну, времена, вы, если помните, были непростые. Мы пытались работать по-журналистски. То есть мы освещали те события, которые совершались, и скорее излагали чужую точку зрения и разные точки зрения.
С. Чибриков: Игорь Валерьевич, это еще удивительнее. То есть врач, который, ладно, ведет программу про медицину, тут вопросов нет. Но врач, который готовит, то есть редактирует и готовит программу о криминалитете. То есть это вот как ЧП сейчас. А тут-то как?
И. Васильев: Ну, вот так получилось. Почему-то у меня возник такой интерес, потому что никто не показывал. Но я не вел программу о формуле здоровья, я руководителем. А вот в право безопасности я уже стал ведущим. потому что никто не показывал, но я не вел программу «Формулы здоровья», я руководителем был. А вот в «Право и безопасность» я уже стал ведущим, и просто было интересно на тот момент, но это было прямо на гребне волны. И в какой-то момент, когда я уже эту программу делал, потом появилась ежедневная программа «Набат» , ежедневная криминальная хроника. И в последующем почувствовал, что не хватает знаний правовых и поступил, уже работая на телевидении, в Томский государственный университет на юридическое образование и закончил этот факультет. Так что у меня на самом деле два образования врач юрист этого у меня даже некоторое время называли «Медикамент».
С. Чибриков: Игорь Валерьевич, поносила вас жизнь, потому что, вот повторю, кто только что к нам присоединился, из врачей вы ушли на телевидение, с телевидения в юристы. Кем вы хотели вообще в детстве-то на самом деле стать?
И. Васильев: Вы знаете, у меня была мечта стать военным. В общем, до 10 класса. Потом я понял, что медицина меня все-таки интересует, тем более у меня и дед медик, и преподаватель, и отец с матерью, и брат медик, и жена медик, и сын кандидат наук, и дочка стоматолог, а сын - нейрохирург.
Время было такое и я благодарен судьбе, потому что получилось прожить несколько жизней.
Я не жалею, что я попал благодаря своим друзьям на телевидение. Это была целая эпопея, это было 8, где-то 9 лет такой активной жизни. При этом, когда все бурлило. Когда все было можно, я считал, что я такой вот все могу. Тем более, что тогда можно было приходить без записи на любые мероприятия, допустим, там, губернатора, облсовета. И освещать, как захочешь, да. Тогда было достаточно просто. Потом, как я уже сказал, не хватало правовых знаний. Пошел, получил юридическое образование, продолжал. Стало попроще работать, разбираться в криминальных темах, значит, работать с юристами, со следователями. Профессионализм программ повысился. Но потом возникла такая ситуация, что все-таки стало уже надоедать. Когда мне порой высказывали, что у тебя программы повторяются, имеются в виду, по фабуле, по темам.
Ну, вот у меня появилась такая мысль, что вечное не делается еженедельно. Поэтому надо держать какой-то уровень. Потому что это рутина. И надо просто держать какой-то стабильный уровень. А следом пришло продолжение этой мысли, что еженедельное нельзя делать вечно.
И захотелось заняться чем-то вечным. Захотелось попробовать совместить две профессии врача и юриста и заняться вопросами правового регулирования медицинской деятельности.
С. Чибриков: То есть, Игорь Валерьевич, я правильно понимаю, что пока вы были в мире телевидения, потом учились на юридическом, вы от медицины как-то отошли? И через какое-то время вы возвращаетесь в медицину. И как? Реакция доцента, кафедры. Вот она, здравствуй, медицина, давно я тут не был, 8 лет. Что там произошло за эти 8 лет?
И. Васильев: Дело в том, что я пришел не совсем туда, откуда уходил. Я ушел с чисто научной кафедры патологической физиологии. А вернулся уже с учетом моих новых профессиональных компетенций, я вернулся на кафедру общественного здоровья и здравоохранения, где появилось преподавание правового регулирования медицинской деятельности.
На сегодняшний день мы преподаем правоведение для студентов и преподаем правовые основы деятельности врача, потому что появилось правовое регулирование медицины.
Когда я учился в прошлом веке, я уже достаточно древний, у нас не было права, как такового. Было три занятия по поводу уголовной ответственности, медработников. А в программы начало активно внедряться правовое регулирование медицины. Появились учебники. И когда я возвращался, то надо сказать, что меня прям приняли с распростертыми объятиями. Во-первых, остепенен, во-вторых, медик, и в-третьих, еще и юрист. И вот, собственно, я вернулся, возглавив этот курс правоведения в медуниверситете. И мы, собственно, разрабатывали, опять это очень интересно, с нуля вот эти вот вопросы преподавания медицина, объема права для медиков, методик которыми должны мы преподавать.
Параллельно я занимаюсь научной деятельностью в сфере правового регулирования медицины. И надо сказать, что здесь поле непаханое. Дело в том, что отрасль молодая.
Собственно говоря, я так понимаю, что поводом информационным для нашей с вами встречи послужило решение Конституционного суда. Это очень интересно, потому что вот этот год, 24-й год, начался для нас тем, что Конституционный суд Российской Федерации издал 11 января Постановление номер 1П.
В этом Постановлении оно касалось определения степени тяжести вреда здоровью по жалобе гражданина, который был потерпевшим по уголовному делу. Но нас здесь больше интересует не то, что Конституционный суд отказал в отмене нормативно-правового регулирования, а то, что в мотивировочной части он высказал такое мнение, что ряд вопросов напрямую относятся к регулированию не уголовным правом, а медицинским правом.
И очертил предметную область. Он сказал, что учет физиологии, анатомии человека, а также вопросы регулирования медицинской деятельности, в том числе и деятельности по проведению судебно-медицинских экспертиз, регулируется медицинским правом.
Для большинства наших радиослушателей, наверное, это не особо-то и звучит.
С. Чибриков: Нет, я вам скажу, Игорь Валерьевич, в последнее время, я как сторонний наблюдатель, у меня складывалось ощущение, что положение врача перед законом, как отношение врач и пациент, примерно такие же, как отношение водитель - пешеход. Неважно, в каком состоянии, где, как переходил, переползал пешеход дорогу с нарушением водитель всегда виноват. Также у меня складывалось ощущение из врачами такая тонкая грань. Чтобы не произошло - врач всегда виноват отсюда и так называемый потребительский экстремизм, когда главное написать жалобу. Все равно врач всегда виноват. Все равно какую-то копейку из него отсужу. Может быть, я заблуждаюсь, и это все публикации в СМИ такое создают ощущение.
И. Васильев: Дело в том, что я сам как работник, бывший работник СМИ. Где-то соглашусь с профессором Преображенским: не читайте до обеда газеты.
На самом деле здесь сказать можно следующее. С одной стороны, это где-то так. Но не все так просто, а с другой стороны, не все так сложно. Когда пришло понимание необходимости правового регулирования медицины, все начиналось с того, что научного подхода не было, и все складывалось эмпирически. То есть появлялись какие-то нормативно-правовые акты, зачастую подзаконные нормативные акты, и они появлялись в большом количестве и создавали такой большой объем норм, которые вообще непонятно, как применять.
Я вам могу сказать, что если говорить о 2000-х годах, то там скорее можно было говорить о другом, что пациенты не могли никоим образом защитить свои права перед медицинскими работниками.
Это было связано и с высокой корпоративностью медицинских работников, и с непониманием правового регулирования медицины. Но в последнее время действительно происходит изменение совершенно в другую сторону. Когда потребительские отношения напрямую применяются к отношениям при регулировании, при взаимодействии пациента и медицинского учреждения. И здесь действительно возникает ситуация, когда медучреждение всегда не право.
Отношения, которые связаны с взаимоотношением между пациентом и медучреждением, пациентом и врачом, они весьма личные и интимные. И по накалу страстей в этих вещах, они, может быть, только семейные какие-то споры превосходят, когда там наследство делят или прочее.
В начале 2000-х у нас был такой Сибирский третейский суд, который сейчас немножко видоизменился. И там у нас была медицинская коллегия. Мы рассматривали вопросы именно в третейском разбирательстве. Я встречался со спорами в сфере медицины. И я вам могу сказать, что там позиция следующая. Пациент приходит говорит, мне ничего не надо. Мне надо, чтобы врачу руки оторвали. Но если руки не оторвали, чтобы диплом у него собрали, чтобы он больше никому не навредил. Как минимум.
А позиция врачей, она приблизительно такая, что эту дуру надо в психиатрическую больницу, потому что она ничего не понимает. Дело в том, что сумбурность нормотворчества и законодательства порождает и сумбур в отношениях.
Дело в том, что медицина сама по себе представляет собой набор правил поведения, которые изменить невозможно. Может быть, мы бы хотели жить вечно. Но, к сожалению, есть один пример, когда человек получил вечную жизнь и воскрес. Это вопрос веры.
С. Чибриков: Скажите, какими вообще правовыми актами регулируются отношения врач-пациент.
И. Васильев: У нас существует закон основной наш закон, который был принят 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан», который достаточно детально и подробно расписывает какие-то моменты регулирования отношений между пациентами и врачами. Больше того, этот закон провозгласил, что он самый главный этот закон при регулировании отношений в системе здравоохранения и все иные законы, подзаконные и иные нормативные акты должны ему соответствовать.
Вместе с тем, получается то, что у нас медицину регулирует и гражданское право, потому что, в принципе, мы с вами чаще всего, и, наверное, вы сейчас за это зацепитесь, встречаемся с медициной как с услугой. Не буду цепляться, это заезжено.
Мы сказали о том, что существует некое недопонимание, и оно действительно есть, потому что в Гражданском кодексе написано, что вообще-то Гражданскому кодексу соответствуют все гражданско-правовые отношения. А единственным источником уголовного права является Уголовный кодекс. А есть еще административные вопросы, регулирование трудового права Трудовым кодексом, где тоже все вопросы труда регулируются специальным образом. И там Трудовой кодекс является основным источником.
Вопрос-то в следующем, что оказывается, что у нас медицину регулируют все отрасли права. Есть особенности труда медработников, есть гражданско-правовое регулирование, административное регулирование, уголовная ответственность и так далее. А где же тогда медицинское, по сути, право? Очень часто начинают говорить, вот то, что мы говорили, затертый вопрос, а помощь или услуга?
Здесь это, в общем-то, мнимое противопоставление, потому что нет понятия в чистом виде противопоставляющего услугу и помощи. Дело в том, что медицинская помощь – это некий набор мероприятий, которые направлены на профилактику, лечение, реабилитацию после заболевания. То есть то, что делается.
А при этом само по себе услуга – это взаимоотношения между двумя субъектами, то есть в какой связи они находятся юридически.
Дело в том, что медицинскую помощь можно оказать не обязательно в виде услуги. Потому что услуга – это договор, где услугодатель выполняет действия в пользу услугополучателя, а, соответственно, услугополучатель должен их оплатить.
А представьте себе, если больной без сознания и умирает. Приезжает скорая. Она выполняет реанимационные мероприятия. Это что – услуга? С кем договариваться? Но эти вопросы также урегулированы Гражданским кодексом - это действие в чужом интересе без поручения. То есть это уже просто не услуга, это другие вещи. А есть вариант, когда вообще никакого гражданского регулирования нет.
Прилетает самолет, берут человека и начинают его в нос палочки пихать, в карантин закрывать, вроде выполняя какие-то медицинские манипуляции.
Но это абсолютно не гражданско-правовое отношение. Это регулируется Административным кодексом, и целью является не обеспечение здоровья этого человека, его никто не спрашивает. Самое главное, чтобы он других не заразил.
Все сложно и дело в том, что упрощать все просто так, говорят простота хуже воровства. Если мы начнем ко всему относиться просто, да, не согласный я ни с Каутским, ни с...
С. Чибриков: Если вы вспомнили про палочки в нос, тогда помните же, сколько было скандалов. Я - свободный человек, не обязан я тут маску носить, это наносит вред моему там...
И. Васильев: Вот смотрите, дело в чем. Это вопрос в конституционно-правовом регулировании. Безусловно, наше государство провозгласило себя правовым и, больше того, одно из самых передовых правовых государств, потому что у нас во второй главе Конституции написано, что государство у нас создано для того, чтобы обеспечивать права и свободу человека и гражданина. И это его основная цель. И вся деятельность его направлена на это.
Какая ситуация возникает? Да, мы исходим из теории естественного права. Человек родился, и он обладает сразу с рождения всеми правами, и ничто не может их неким образом сузить и ограничить. Но смотрите, ситуация в праве. Дело в том, что человек существо общественное. Для того, чтобы мое право было безграничным, вот такая коллизия, его необходимо ограничить.
Вот представьте, меня безграничное право. Я сейчас могу встать, у вас снять наушники, отобрать микрофон.
С. Чибриков: Я не буду спорить. Вы доцент кафедры, ну забрали.
И. Васильев: Ну, с другой стороны, вас больше, и вы таким образом сейчас на меня накинетесь, и я вообще могу отсюда не уйти. Поэтому смысл в том, что существуют определенные в Конституции возможности ограничения права человека для того, чтобы это право работало.
Эту фразу, наверное, слышали, что право каждого заканчивается там, где начинается право другого.
Конституция говорит нам о чем? Что право может быть ограничено только на основании закона и только в целях, которые прямо предусмотрены в 55-й статье Конституции, то есть для сохранности конституционного строя, безопасности страны, здоровья других лиц, ну и там шесть целей.
Но дело в том, что вот в данном случае, когда был ковид, это были абсолютно законные действия, потому что каждый человек, на тот момент, когда вирулентность этого заболевания, вируса была наиболее высока, поэтому надо было ограничивать его распространение. И, в общем-то, это получилось сделать. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, это все было в полном соответствии с правовыми предпосылками.
Ну а то, что касается разграничения, вот сейчас позицию высказал Конституционный Суд.
Но мне кажется, что перед юристами он, показав направление, он дал, в общем-то, большое поле для работы. Потому что нам необходимо ограничить все-таки, что у нас регулируется непосредственно медицинским правом, которое на сегодняшний день есть. Потому что решение Конституционного Суда это окончательное решение, которое обжалованию не подлежит. И каждый юрист должен считаться с этим мнением.
И вот на сегодняшний день мы понимаем, что существует отрасль медицинского права, у которой должен быть четко определенный предмет, чтобы он ни в коем случае не пересекался с другими предметами.
В противном случае возникают вот такие вот непонятности. Дело в том, что немного юристов, относительно немного, занимается медицинским правом. Уголовным правом полно, традиционно трудовым правом и так далее. А медицинским правом немного. Поэтому у нас в Новосибирской области не так много специалистов.
Мы создали е. Мы обсуждаем эти вопросы, это и Питер, и Москва, и Омск, и Ярославль. Вот мы вообще не обсуждая это постановление Конституционного суда и понимая его значимость, мы вышли в Москву, в нашу основную Ассоциацию юристов России с предложением считать 11 января днем признания отрасли медицинского права.
Понимая, конечно, что еще четко очерчены предметы и методы отрасли нет, но понимая и принимая на себя некие обязанности по формированию специального образования отрасли медицинского права.
С. Чибриков: То есть мало вам, что летом день медицинского работника, еще и в январе хотите?
И. Васильев: Вы понимаете, праздников у меня очень много. Вы же еще и юрист, и телевизионный. Совершенно верно.
С. Чибриков: Скажите, а вот это самое медицинское право, вот если брать его, ну скажем так, вот как по возрасту человека, оно у нас сейчас на каком уровне развития? Это ребенок или это юноша? Или уже сформировавшись? Или вообще его нет ?
И. Васильев: Ну, ходить еще не может. Лежит, кричит. Потихонечку, потихонечку с помощью. То есть только, на мой взгляд, только самое начало, потому что необходимо огромное количество работы. Потому что вот те перегибы, которые были, мы с вами обсуждали вначале, в сторону, значит, пациентов и медорганизации, сейчас судебная практика складывается таким образом, что, ну, скажем так, в том числе и с подачей нормотворцев. То есть вот такие нормы были сделаны, которые привели к тому, что на сегодняшний день практика формируется так, что медицинская организация виновата всегда.
Это связано с применением клинических рекомендаций, пониманием их как нормативно-правовых документов. И вот у нас была конференция, и один товарищ наш из Москвы проводил исследование работы скорой помощи. И, соответственно, он проанализировал качество медицинской помощи по тем критериям, которые предлагаются Минздравом.
И он установил, что 100 процентов выезда в скорой медицинской помощи проходят с нарушением критериев качества медицинской помощи. Дело в том, что в эти критерии включаются не только непосредственно какие-то вот нарушения, причиняющие вред. Дело в том, что в эти критерии были включены особенности заполнения меддокументации, своевременности заполнения меддокументации. То есть, в эти критерии включено все.
Цифра чудовищная, но дело в том, что суды у нас почему-то восприняли это, если есть нарушение качества оказания помощи. Значит, это уже есть основание для взыскания с медучреждения неких сумм.
Дело в том, что, безусловно, у нас идет определенное недофинансирование, хотя можно сказать, что стало, конечно, лучше.
Но дело в том, что медицина становится все более и более дорогостоящей. В этой связи надо сказать, что сколько медицину не вкладывай, все равно будет мало.
Понимаете, право, оно не может наказывать 100%. Нельзя массовые деяния наказывать криминально. Есть презумпция в гражданском праве. Дело в том, что презумпция невиновности, она в гражданском праве не действует. Слышали же, наверное, про статью 51 Конституции, что никто не может быть признан виновным. Но это касается уголовной ответственности.
А вот в гражданском праве там совершенно иная ситуация. Потому что гражданское право это другое регулирование. А оно исходит из того, что каждый имеет свои права, каждый и вправе реализовывать, действовать как угодно, сообразно своему пониманию. Но при этом, при всем, вот этот принцип равенства всех субъектов приводит к тому, что никто никому не вправе причинять никакого вреда. И если вред причинен, то соответственно тот, кто причинил, он заведомо виноват, если он не докажет обратного.
С. Чибриков: То есть врач уже виноват, если он не доказал, что он не виноват.
И. Васильев: Ну не совсем так, потому что субъектом взаимоотношения, что касается медицинского права, субъектом взаимодействия с пациентом у нас является медицинское учреждение.
С. Чибриков: Игорь Валерьевич, буквально у нас минут пять с вами осталось, а мы еще по всему праву, так сказать, не успели пройти.
Вот что я понял к этой минуте - что положено начало так сказать внедрению некоего медицинского права. Вопрос - сколько оно будет разрабатываться и когда оно придет в какой-то свой нормативный нормальный вид, чтобы на него можно было ссылаться и говорить что согласно статьи там такой, ведь сейчас же нет такого?
И. Васильев: Нет, у нас сейчас есть. Больше того, я вам скажу, ну, медицинское право, оно, это цель. Мы всегда порой говорим, вот, все плохо, вот мы за все хорошее против всего плохого. Никогда не будет идеала. Но к нему нужно стремиться. И дело в том, что надо делать просто это все постепенно. Как говорят по Дерибасовской гуляют постепенно.
То есть необходимо, наше глубокое убеждение, что все надо делать потихоньку, внедрять научно обоснованные подходы к тому или иному вопросу. Потому что если мы попытаемся, а вот мы все понимаем, мы сейчас сделаем революцию.
Я не помню, кто сказал, что чаще всего наведение порядка это приведение упорядоченной действительности в соответствии с бардаком в собственной голове.
Вот часто у нас такое бывает. А давай мы вот так вот рубанем, давай мы сейчас это все пересмотрим, давай не будет услуги, давай будет помощь.
При этом при всем, играя словами, мы выкидываем смысл. И вот то, что Конституционный Суд дал вот это направление. Почему мы важность этого момента подчеркиваем? Потому что Конституционный Суд дал вот это направление. Мы важность этого момента подчеркиваем, потому что Конституционный Суд нам показал, ребята, вот копайте вот в это.
И здесь я бы хотел, наверное, уже заканчивая, сказать, что у нас складывается такое впечатление, что сама по себе медицина, она не просто наука или искусство, а это своего рода право.
Потому что в медицине существуют правила поведения, которые имеют свойство нормы. Где есть и гипотеза, и диспозиция, нет санкций. Но при этом ответственность возникает. То есть, по большому счету, медицина структурирована, и она правомерна. И вот нам надо фактически сейчас врачам-юристам, нам неким образом надо сблизить и перевести язык медицины на язык права и сказать, где кончается правовое регулирование и где начинается частное регулирование.
И этот вопрос, безусловно, будет разрабатываться, наверное, столько, сколько существует и медицина и право.
С. Чибриков: Но прогнозы это, конечно, неблагодарное дело, но, тем не менее, как вы думаете, сколько примерно должно пройти времени, чтобы из вот это самое медицинское право, которое на данный момент в состоянии ребенка, который даже еще ходить не умеет, ну, хотя бы так, не знаю, такой юноша, который уже уверенно что-то может сказать от своего имени. Сколько времени должно пройти, чтобы медицинское право уже о нем говорили, как о случившемся факте?
И. Васильев: Говорить, как о случившемся факте, начали давно. Дело в том, понимаете, взросление отрасли права зависит не от времени, а зависит от количества работы.
Дело в том, что огромное количество юристов занимается, я уже говорил, вопросами трудового права, уголовного права, уголовного процесса. Это все разрабатывается, потому что это все классические отрасли.
Если мы между собой будем взаимодействовать в рамках Ассоциации юристов России, то тогда, временной фактор станет второстепенным.
Я надеюсь, что мы сможем опредметить и обосновать методологически эту отрасль уже в достаточно короткое время.
Этим мы, я вам обещаю, будем заниматься, и в этом есть наш интерес.
С. Чибриков: Гиппократ вам в помощь, конечно, от всей души. Надеемся, что все у вас получится, и рано или поздно 11 января мы будем вас поздравлять с Днем медицинского права.
И. Васильев: Он был настолько стар, что давал клятву лично Гиппократу. Но это не про меня.
С. Чибриков: Спасибо вам большое. Большое спасибо, что нашли время в вашем плотном графике, заглянули к нам.
Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Новосибирского государственного медицинского университета и председатель медико-правовой комиссии Новосибирского регионального отделения Ассоциации юристов России Игорь Валерьевич Васильев был у нас в гостях.

